Подобное мнение можно услышать от тех, кто в церкви практически не бывает и принимает за правду иллюзии и фантазии. Опровергнуть его может любой мирянин, не понаслышке знающий о тяготах священнического служения.
Попробуйте-ка отстоять 2-3-часовую литургию или вечернюю службу. И представьте себе, что вам нужно делать это, в среднем, каждые 2 (максимум 3) дня на протяжении всей жизни. Любой священник служит не только по субботам и воскресеньям, но и в церковные праздники, коих в Православии – огромное множество.
В некоторые периоды, например, на 1-й и Страстной седмицах Великого Поста – ему приходится служить каждый день утром и вечером, а иногда ещё и днём. Помимо безчисленных служб, батюшка практически ежедневно проводит священнодействия и молитвословия по просьбам людей. Освящает, крестит, венчает, проводит молебны, отпевания, литии и панихиды. Соборует, исповедует и причащает больных. И делает это не только в храме, но и выезжает на дом к страждущим.
Представьте себе, что к вам постоянно приходят люди и «грузят» вас своими проблемами, бедами и горестями, и нет этому конца и края. Очень скоро вы начнёте сходить с ума или посылать всех куда подальше. А ведь почти каждый день священнику на исповеди приходится выслушивать откровения десятков, а то и сотен людей, соприкасаться с их душевной болью или грязью, становясь своего рода духовным и душевным «ассенизатором». Исповедь может затягиваться до полуночи – ведь батюшка старается принять всех, каждого выслушать и духовно помочь. И не всем духовникам удаётся выдержать эту чудовищную психофизическую нагрузку, некоторые начинают тяжело болеть или происходит их духовное выгорание.
По долгу службы священник читает проповеди, неся людям Слово Божие и стараясь подавать личный пример достойной жизни по этому Слову. На подготовку к проповедям и домашние молитвы ежедневно уходит от одного до нескольких часов. Кроме служб и треб многие батюшки ведут социальное служение – посещают больницы, дома престарелых, тюрьмы и колонии, духовно помогая людям. Открывают при храме кружки и секции для детей и подростков, причём далеко не только церковной направленности. И ещё много чем другим полезным занимаются.
На личную жизнь у батюшки остаётся совсем немного времени. И даже простой человеческий отпуск бывает доступен не всем священникам. Хотели бы вы себе такой «лёгкой» жизни? Думается, что честно ответить «да» на этот вопрос сможет лишь настоящий альтруист и подвижник.
2. Настоящий батюшка должен быть бедным.
Есть мнение, что батюшке не к лицу иметь хорошую машину, большой дом и дорогие вещи, в то время, как большинство простых людей в нашей стране не могут себе этого позволить. Ведь «сытый голодного не разумеет». И к тому же, кормят попа прихожане, а значит, он «шикует» на народные деньги.
На самом деле, доход священника отнюдь не всегда напрямую связан с его церковной деятельностью. А большая часть пожертвованных простыми прихожанами денег уходит не в карман к попу, а на текущие нужды храма и прихода. При этом, если духовник уважаемый и любимый в народе – то к нему время от времени приходят спонсоры и меценаты, готовые дарить на нужды Церкви немалые суммы.
Небольшую часть из них священник действительно может потратить на личные нужды. И если у него появляется возможность стать обладателем качественной иномарки взамен имевшегося у него полуубитого автохлама – то в этом нет ничего предосудительного. На хорошей машине он сможет объездить больше нуждающихся прихожан, и не будет тратить своё драгоценное время на постоянные ремонты. Ну а в хорошем доме – легче восстановить свои силы после изнуряющей работы.
Разумеется, пастырю следует знать меру, не прыгать выше головы и не привязываться к земным благам. Обеспечив себе более-менее достойные условия жизни, избыток финансов хороший священник тратит не на дальнейшее улучшение уровня своей жизни, а на помощь нуждающимся. Как пример для подражания можно вспомнить святого Иоанна Кронштадтского. К нему от благодарных граждан стекались такие огромные суммы, что он мог бы стать настоящим олигархом. Но для себя он оставлял лишь необходимые для полноценной жизни «крохи», а всё остальное щедро тратил на благотворительную деятельность.
3. Лобызать руку можно только тем священникам, кто старше вас.
Целование руки священника – вовсе не общеобязательная процедура, как думают многие верующие, а благочестивый обычай, в котором проявляются смирение человека и уважение к сану. Ещё в библейские времена подобная практика была распространённым явлением и считалась символом любви и уважения. Христиане лобызают руку священника, когда он даёт им крест или благословляет.
В духовно-нравственном смысле человек как бы мысленно целует незримую десницу Спасителя и получает Свыше благодать от Самого Бога, действующего через руку священника. Так что люди не перед батюшкой преклоняются, а перед Богом. И ещё таким образом выражается почтение к священническому сану.
Если священник моложе вас и годится в дети или внуки – смущаться не стоит. Его сану уже 2 тысячи лет, и, лобызая руку батюшки, человек в духовном смысле целует не только Бога, но ещё и всех великих святителей и духовников, которые этот сан носили – от апостолов до современных святых.
Чтобы паства не смущалась, многие батюшки подставляют не саму руку, а поручи – ту часть церковной одежды, что находится в районе запястья. На поручах изображён крест, к которому и прикасаются губами. Но в любом случае, всё это – дело добровольное, и за отказ целовать никто никого не имеет права осуждать.
4. Все попы – толстые. Потому что они любят вкусно и много есть.
Разумеется, далеко не все православные священники толстые. Человек, которому мерещится подобное, пребывает в мире субъективных иллюзий и явно предвзято относится к батюшкам. Священники – такие же люди, как и все мы, и обладателей лишнего веса среди них ничуть не больше, чем среди простого народа. Сравнительной статистики соотношения полных и худых священников не проводилось.
По моим личным многолетним впечатлениям – толстых попов всё же меньше, чем обладателей нормальных фигур. Большинство тучных священников уже немолоды, и их большие животы – как правило, появились не от обжорства, а из-за тяжёлой жизни, хронических болезней, нарушения обмена веществ и неправильного питания.
Судите сами. Нормальный режим питания для священника – непозволительная роскошь. Причина тому – не только ненормированный рабочий день, но и канонический запрет употреблять пищу перед утренним богослужением. В дни служб священнику удаётся позавтракать лишь в 2-3 часа дня. А если у него неотложные требы – то ещё позже. Особо загруженные батюшки едят всего 1 раз в день – вечером.
И не всегда могут с голодухи удержаться, чтобы не съесть лишнего. Ходить в спортзал им некогда. Ведь кроме многочисленной паствы, постоянно требующей внимания, есть ещё семья, как правило, многодетная. Такую тяжёлую жизнь выдерживают не все, многие начинают болеть. И некоторые даже умирают в самом расцвете сил.
А ещё жир на животе может откладываться по психосоматическим причинам – как своего рода защита организма от лежащего во зле агрессивного мира. И было бы несправедливо осуждать батюшку за такую «самозащиту».
5. Если батюшка серьёзно грешит – его таинства недействительны.
Понятно, что духовное состояние священника имеет немалое значение при совершении таинства, и лучше всего – когда он ведёт праведную жизнь. Но далеко не всегда на нашем пути встречаются подвижники. За неимением оных – даже «недостойный» поп-грешник может принести людям духовную пользу, если в их сердцах есть искренняя вера в совершение святых таинств. Ведь таинства совершаются Самим Богом, а священник всего лишь Его «ассистент», ходатай и помощник. Благодать, которая даётся ему при рукоположении, позволяет совершать церковные Таинства до тех пор, пока епископ не отправит его под запрет.
Люди не виноваты, если священник из их церкви оказался «падшей овцой». Господь может попустить его отстранение, тяжкую болезнь или даже смерть, но пока батюшка служит и официально не отстранён – Бог всё равно будет действовать через него и помогать людям.
6. Со священником нельзя просто по-человечески дружить, перед ним можно только преклоняться.
Разумеется, это не так. Священник – такой же человек, как и мы, только более ответственный и духовный. У него так же, как и у всех нас, есть свои друзья. Причём среди них можно встретить не только православных батюшек и мирян, но и даже представителей иных вер, или даже агностиков и атеистов. Религия не должна разъединять и мешать простой человеческой дружбе.
У автора этих строк тоже есть друг-священник. И мы видимся не только во время посещения храма. Когда у Батюшки появляется свободное время – мы общаемся на любые темы, выбираемся на природу, катаемся на лыжах и горных велосипедах. Несколько раз мы даже в совместные турпоходы ездили. И многие мои друзья с ним тоже дружат.
Некоторым он помог прийти к вере, а для тех, кто по-прежнему далёк от религии – он всё равно остаётся хорошим другом или приятелем, исключительно позитивным человеком и живым примером доброты и любви к людям.
Дружба дружбой, но есть важный момент: общаясь с другом-священником нужно всегда проявлять уважение и избегать панибратства. К примеру, в нашей компании Батюшку уважительно величают «на Вы» – это позволяет держать маломальскую необходимую дистанцию и не забываться.
Вышесказанное касается именно мужской дружбы. Из женщин настоящим другом священника может быть только его жена или близкая родственница. Дружить же с посторонними (особенно с молодыми) женщинами батюшкам не рекомендуют их духовники – во избежание ненужных искушений и проблем.
7. Духовного отца лучше искать среди монахов.
В народе распространено мнение, что монашествующие священники, посвятившие себя Богу – духовно более одарены и ближе Господу, чем обычные батюшки. А значит, лучше иметь в духовных отцах именно их. Но так ли это?
На самом деле, настоящих старцев, которым открыта воля Божия – считанные единицы, и к ним, как правило, просто так не попасть. А хороший духовник может быть отнюдь не только выходцем из числа монахов, но и представителем обычного «белого» духовенства. Мало того, простые «мирские» батюшки по части практического опыта и благодатности нередко могут дать фору многим монашествующим.
Обычному человеку, не собирающемуся уходить в монастырь и желающему жить нормальной жизнью, лучше выбирать духовного отца из числа умудрённых годами семейных священников. Простые батюшки, пережившие и преодолевшие всевозможные привычные для нас мирские искушения, приобретают поистине безценный духовный опыт, которым они могут с радостью и пользой делиться со своими духовными чадами. Они лучше понимают мирян и не налагают на них невыполнимых епитимий. И избегают давать неоднозначные советы, способные наломать дров или отвратить неподготовленного человека от Церкви.
8. Духовник – всегда прав.
Многие считают, что всё, что сказал уважаемый ими духовник – непреложная истина. И любое его повеление надо выполнять безпрекословно, даже если вы и не согласны с ним. На самом деле, даже самый мудрый духовник может порой ошибаться. А слепое безоговорочное повиновение духовному отцу может практиковаться только в монастырях, и ни в коем случае эта практика не может распространяться на обычных мирян.
Если духовный отец требует абсолютного подчинения себе и настаивает на строгом неукоснительном исполнении своих советов и благословений – стоит насторожиться. Человек должен сохранять свою волю и лично принимать решения, делая тот или иной выбор. Хороший духовник учит людей мыслить и духовно расти самостоятельно, и ни в коем случае не превращает их в марионеток, неспособных и шагу ступить без своего наставника.
Особую опасность представляют «младостарцы», которые стали монахами в молодом возрасте и ничего не понимают в семейной жизни и психологии человеческих отношений, но при этом считают себя мудрыми пастырями и любят навязывать своё мнение как истину в последней инстанции. Такие люди способны своими благословениями и рекомендациями разрушить даже крепкую счастливую семью или превратить мирную счастливую жизнь в подобие земного ада. Они могут наложить на начинающего христианина непосильную духовную ношу и морально или физически сломать человека. От таких «духовников» нужно бежать как от огня.
9. Священник – это лучший специалист по жизни, и с ним нужно советоваться по любым житейским вопросам.
Некоторые православные имеют дурацкую привычку доставать батюшек вопросами на бытовые темы. Им кажется, что если уж пастырь – духовно мудр, то он и по житейской части может дать ценные советы и указания. И начинаются безконечные вопросы вроде: «Батюшка, на какую работу мне идти?», «А подойдёт ли мне вот этот жених?», «Стоит ли продать квартиру и построить дом?», «В какой кружок ребёнка отдать?» — и т.д. и т.п. Священник по мере сил пытается ответить и помочь, но при этом серьёзно рискует, что впоследствии кто-нибудь разочаруется и предъявит ему претензии, привычно перемешивая и путая духовное с душевным и бытовым.
Подобным любителям идти за советами в храм стоит раз и навсегда запомнить: обязанность пастыря – вести людей к Богу и духовно просвещать, а не быть мудрецом по житейской части. Попросить благословения на любое доброе дело можно, но, ни в коем случае нельзя перекладывать на священника ответственность за принятие решений и ждать от него чётких ответов на бытовые задачи, которые вы можете и должны решить самостоятельно.
И уж тем более не стоит одолевать батюшку медицинскими вопросами и просьбами помочь выбрать лечение, благословить или отговорить от операции. Всё это должны решать опытные медицинские специалисты. А священник может лишь помолиться за болеющих и попросить у Бога наилучшего для них исхода.
10. Самые тяжкие и постыдные грехи лучше исповедовать незнакомому священнику, живущему далеко от места вашего проживания.
Есть среди прихожан эдакие хитрецы и мудрецы, которые регулярно исповедуются и причащаются, но никогда не расскажут своему батюшке о самых неприглядных духовных недугах своей души. Им кажется, что, если они будут полностью откровенными – знающий их священник перестанет их уважать. А может быть даже ещё и кому-нибудь про них разболтает. Поэтому, чтобы рассказать о самых мерзких грехах, такие люди едут куда-нибудь подальше от дома к тому, кто их не знает и после уже никогда не увидит.
Подобные методы попахивают лукавством и фарисейством. При таком подходе можно в своём приходе выглядеть «белым и пушистым» и продолжать тяжко грешить, занимаясь самоуспокоением и самооправданием. И духовник уже не сможет помочь такому человеку реально преодолеть своё духовное повреждение и реально стать чище и лучше.
Любой нормальный священник радуется о покаянии человека, и никакой тяжкий или постыдный грех не отвратит его от исповедующегося. Шокировать и удивить опытного пастыря своими грехами – невозможно, ведь за многие годы работы каждый батюшка узнаёт о людях столько, сколько не снилось даже опытному психологу. Постоянный духовник может помочь более эффективно, нежели множество незнакомых священников.
Не стоит бояться и возможного разглашения тайны исповеди. Этот грех означает автоматическую духовную смерть для пастыря, и ни один нормальный поп на такое не пойдёт, даже если его очень попросят серьёзные люди из ФСБ.
Тайна исповеди не может быть разглашена ни при каком случае. В России она охраняется не только духовными канонами. Согласно Федеральному Закону «О свободе совести и о религиозных объединениях», тайна исповеди охраняется законом, и священнослужитель не может быть привлечён к ответственности за отказ от дачи показаний по обстоятельствам, которые стали известны ему из исповеди. А согласно Уголовно-процессуальному кодексу батюшку не имеют права привлекать и допрашивать в качестве свидетеля. Так что исповедуйтесь спокойно и без опасений – никто вас никому не выдаст.
Источник: alexey-x.livejournal.com
Я — жена священника! Как живут те, кто посвятил себя служению Богу
Быт священников и их семей по сей день окутан массой стереотипов: как живут те, кто посвятил себя служению Богу? На самом деле религия становится гораздо более прозрачной благодаря молодым людям, которые развеивают мифы и вековые клише. Так, матушка Иулиания — жена священнослужителя из Краснодара — ведет блог, а мы поговорили с ней о вере, детях, муже и модном христианском гардеробе.
— Юлия, как к вам правильнее обращаться — Юлия или все же Иулиания? Вас как жену священника, наверное, часто называют просто матушка?
— Да, мое имя вызывает вопросы. По паспорту и документам — Юлия. При крещении — Иулиания. В храме часто обращаются «матушка», «матушка Иулиания», но я не особо люблю это. Поэтому можно просто — Юля.
— Скажу честно, матушка-блогер — довольно необычное сочетание. Как родилась идея рассказывать о себе и своей жизни в социальных сетях?
— Это все декрет. Сначала я вела страничку просто как дневник, на память. Фотографировала детей, себя. Особых подписей не делала. Но тогда и не нужно это было. Почти все так делали.
Фото еды, селфи и стандартные подписи.
С рождением второго я заметила, что люди стали интересоваться моим опытом: у меня маленькая разница между детьми. Спрашивали, как справляюсь, как воспитываю. Тогда мне хотелось об этом говорить. Я читала много книг по воспитанию и развитию. Понимала, что не все могут позволить себе читать, либо просто могут не знать, какую литературу брать.
Поэтому делилась всем этим.
И в то же время мне очень хотелось всем рассказывать о Боге, о стереотипах в вере. Так все и началось.
— Ваш супруг не против того, что вы ведете Инстаграм-аккаунт?
— Нет, муж не против. А даже наоборот, он очень меня в этом поддерживает! Как иногда шутим, продюсирует. Часто помогает с идеями. Первое время я некоторые свои тексты именно на религиозные темы давала ему на проверку.
— Я с удовольствием читала ваши посты и в какой-то момент поймала себя на мысли — вы совсем не такая, какой я себе представляла обычную жену священнослужителя… Часто вам это говорят?
— Да, очень часто я слышу, что не похожа на матушку. От кого-то это в положительном ключе, а от кого-то, наоборот, с негативом. Хотя, конечно, первых больше. Знаю, что на меня подписаны и мусульманки и просто девушки, далекие от веры, потому что им интересно.
— Вы открыто рассказываете о своей жизни, детях, мыслях. А как насчет бытовых зарисовок? К примеру, как проходит ваше многодетное утро?
— У мужа со старшей дочкой утро начинается рано. Они просыпаются в начале седьмого, завтракают и уезжают. Дочь учится далековато от дома, муж ее отвозит. Иногда возвращается домой, но чаще остается по своим делам. Ближе к 9 просыпаемся мы с детьми. И все, как у всех: завтрак — часто каждому что-то свое.
Я занимаюсь младшей, переодеваю ее.
Мальчики после завтрака играют, смотрят мультики. А я, пока младшая лежит спокойно, разбираю вещи, загружаю стиральную машину, ставлю вариться кофе и готовлю завтрак себе. Часто так бывает, что мой завтрак начинается ближе к 12. Случается, что только сяду есть, прибегут мальчишки — и снова еда. Либо младшая захочет спать. Тогда я пью кофе и одновременно качаю ее.
Все, как у всех мам в декрете.
Источник: eva.ru
За что священник получает деньги? Чем он занимается на самом деле?
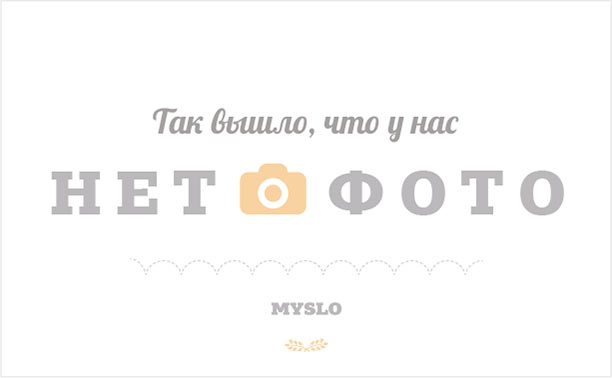
Сказывали старые люди, что раньше сельский батюшка ходил по домам и видел как живут люди. помогал кому советом, кому едой, а кого-то и поругивал, за неправильный образ жизни. А вечером, стоя на коленях, молился перед образами и вымаливал прощения и помощи сельчанам
Священник это посредник Бога. Богу деньги не угодны. Священник не работает. Священник служит. Служит Богу. Священник как и его прихожане Рабы Божьи. О деньгах речь не уместна.
Верующий и слова осуждения не скажет, а другие найдут повод обвинить Церковь. им не важно что есть на самом деле, у них есть установки, заложенные в них с детства — они их покорно выполняют.
Спаси вас, Господи и помоги выслушивать нас грешных. Всегда на исповеди удивляюсь, откуда у батюшки силы берутся, особенно в праздники — много исповедующихся. Помоги вам, Господи, в вашем служении. Что мы без церкви? Овцы — это бы хорошо, но мы просто бараны. .
А предлагаю ознакомится со статьей..
У людей, далеких от Церкви, а порой и у позиционирующих себя православными, есть недоумение: за что
священник получает деньги? Что за труд — несколько раз в неделю помахать кадилом? Чем же на самом деле занимается священник и от чего он устает? Предлагаем вам взглянуть на проблему изнутри.
Поскольку я на протяжении ряда лет читаю лекции по «Практическому руководству для пастырей» в Саратовской духовной семинарии, мне по характеру данного послушания приходится раз за разом — подробно и обстоятельно — рассказывать ее студентам о том, в чем заключается «работа» священника, ее особенности и нюансы, скорби и радости, труды и отдохновение от них. И вот как-то я поймал себя на мысли: вот здорово было бы хоть в самом сжатом виде, но поведать это людям внешним, не знающим нашей пастырской жизни!
Тем самым людям, для которых священник по умолчанию — бездельник и тунеядец, вымогающий последний копейки из нищенской пенсии доверчивых старушек и мастерски «обрабатывающий» потенциальных спонсоров на предмет целевого или нецелевого пожертвования.
Потом я подумал: а стоит ли? Ведь если человек хоть немного интересуется жизнью Церкви — пусть даже и не как друг, а как недоброжелатель, не может же он совершенно не знать, в чем заключается пастырское служение. Или может? Может, пожалуй. Но я предпочту не столько о служении этом как таковом сказать в немногих словах, а о другом, что в принципе к этому близко.
О том, от чего священник устает.
Прежде всего замечу, что в наши дни характерные черты пастыря доброго это практически всегда лицо, несущее на себе печать многоразличных и многообразных забот, вкупе с последующим такому многоразличию и многообразию синдромом хронической усталости.
Я допускаю, что есть батюшки с недюжинно крепким телесным здоровьем и бесконечно стойкой нервной системой, но лично мне их встречать приходится редко. Да и сам таковым не являюсь, так что тема по-настоящему близка. Что же так священника утомляет, что к этому синдрому приводит?
Какое бы послушание на пастыря ни возлагалось, все равно его главной заботой и попечением остаются люди — вверенная его попечению паства и те, кто может в нее влиться, а может так и остаться за пределами ограды церковной. И первый и самый важный труд — работа с этими людьми. Но, конечно, еще прежде того — служение Божественной литургии и вообще совершение богослужений.
Казалось бы, что сложного и утомительного в этом? Напротив, богослужение должно являться для священника источником сил, энергии, необходимых для всей его деятельности в целом. Так оно и есть. С одним лишь маленьким, но очень значительным «но».
Когда я был еще послушником, я слушал рассказ хорошего, опытного игумена из лаврской братии, который незадолго перед тем вернулся из села в одной из северных областей нашего отечества, где он гостил, будучи в отпуске, и где ему привелось послужить на престольный праздник, заменяя в местном храме заболевшего настоятеля.
— Ты знаешь,- говорил он,- читаю молитвы, произношу возгласы, а чувство такое, словно сквозь лес густой продираюсь. Поворачиваюсь, чтобы народ благословить, а на меня люди смотрят с искренним непониманием происходящего. И весь их интерес сконцентрирован на баке с освященной перед литургией водой. Они бы на него и раньше набросились, да я просто лег сверху грудью и сказал, что до отпуста литургии воду набирать не позволю, а то и на службу толком никто бы не остался. Отслужил, причастился, разоблачаюсь, состояние такое, будто палками по всему телу били… Избаловала нас Лавра прихожанами-молитвенниками!
Может кто-то и правда подумает: «Какой избалованный батюшка! Какой изнеженный… Палками его били, дескать, скажет тоже». А меж тем в этом маленьком рассказе как в капле воды отражается то главное, от чего священник может уставать. Это очень непросто — молиться за всех, кто в храме, быть локомотивом для состава, у вагонов которого колеса разве что не заблокированы.
Ощущения, конечно, у разных священников разные бывают — «палками били», «вагон с кирпичами разгружал», но это просто от особенностей восприятия. А суть — всех на себе тащил.
Разумеется, на приходе уже сложившемся, благоустроенном, дружном, состоящем из по-настоящему церковных людей, все совсем иначе. Да только чаще всего начинать приходится — особенно в таких, сельских храмах, не то, что с нуля, а с отрицательной отметки. Помню хорошо нашего товарища, которого на Страстной седмице отправили на вновь открытый сельский приход. Привел запущенную церквушку в порядок, отдраил его в одиночку, просфоры испек, приготовился к службе, и вот она — первая Пасха.
— Христос воскресе! — радостно возвещает он людям, пришедшим в храм.
А они на него смотрят, и в глазах ясно читается вопрос:
— Ну? И что дальше?
Только и оставалось, что самому себе отвечать:
После такого праздника не то, что будешь чувствовать себя неважно, отлеживаться придется. Правда.
Кто не помнит образ пастыря доброго, который идет за одной-единственной заблудившейся овечкой и несет ее обратно на своих плечах? Она не так уж и легка. А если она не одна? И если опять же надо — нести на себе?
Как это происходит практически и почему на себе?
Ну, вот, например, крещение. С крестными и родителями провели ряд огласительных бесед, они их… выдержали. Но на крещение пришли не только они, а и родные с друзьями, все люди невоцерковленные. Час в храме для них подвиг, причем, судя по всему, непосильный. Они переминаются с ноги на ногу, смотрят по сторонам, мучаются.
Священник обратился к ним вначале со словом, в котором кратко сказал о том, что крещение не просто частное событие, а праздник всей Церкви, и сейчас они ее собой представляют, призвал к молитве. Но… слово не нашло благодарных слушателей.
И можно, без сомнения, просто «отчитать» и «отпеть» положенное, да будет ли совесть спокойна? И священник молится — опять за всех присутствующих, не только за крохотного младенца в белой кружевной рубашечке, но и за всех прочих младенцев — великовозрастных и совсем несмысленных. И то же чувство страшной усталости и изнеможения потом.
Каждый из нас знает эту удивительную разницу — между «таким» крещением, и другим — когда крещающийся и немногие близкие его ловят каждое слово молитвы, откликаются на него сердцем, участвуют и сопереживают. Не так часто это бывает, как хотелось бы. И не в том дело, что пастырь нерадив и «оглашать», как следует, не хочет. Просто люди такие духовно немощные в большинстве своем, овечки чисто…
А исповедь? Это, пожалуй, самое трудное. И не в том дело, что раз за разом священнику приходится слышать не только «грехи повседневные», но и грехи действительно тяжкие — таков уж мир, в котором мы живем. И слава Богу, что решаются люди придти с ними в храм, чтобы разрешиться от этого страшного бремени! Усталость от этого — естественная и законная.
Но она и «здоровая», потому что не только ангелы на небесах радуются покаянию грешника, а и пастырь ему радуется, особенно, когда видит, что оно настоящее — искреннее и глубокое.
А вот если оно «постольку поскольку», без сокрушения, без желания измениться, стать лучше, сводящееся к констатации или даже какому-то странному недоумению «кающегося»: «Вот, вроде бы и грех это, а может, и нет… все так живут»… Тогда опять ощущение, словно воз на себе тянешь. Так же как и тогда, когда после каждого сказанного слова человек смотрит на тебя и ждет: не разберешься ли ты с его грехами вместо него, не решишь ли за него эту проблему — как сделать так, чтобы их больше не было? У него-то ведь сил бороться нет.
Не говоря уже о людях, которые на исповедь подходят не со «списком грехов», а с просьбой: «Сделайте мне что-нибудь…». И сколько ни бьешься, ни объясняешь, что ты «сделаешь» — помолишься, посоветуешь, но главным образом человек сам делать должен, в глазах просящего лишь тоска, которая, кажется, еще немного, и твое сердце тоже наполнит…
…А еще устает священник и унывает порой даже, когда видит, как и постоянные его прихожане, с которыми уже не одна Пасха и не одно Рождество вместе отпразднованы, с которыми не только десяток куличей, но и пуд соли съеден, топчутся на месте, спотыкаются, падают вместо того, чтобы споро идти вперед. Неправедно такое уныние — но чего греха таить, бывает оно.
А после службы — требы. В разных домах, квартирах, больницах, на улицах даже, на кладбищах. И едет священник из конца города в конец с чемоданчиком и епитрахилью на шее со смешно оттопыривающей плащ на груди сумочкой для дароносицы. И один смотрит на него так, другой иначе, кто-то язвит, кто-то произносит вполголоса из сокровенности сердца идущее: «Мог бы — убил!».
Ну, это, конечно же, в том случае, если не имеет священник роскоши незаконной — личного автомобиля. Впрочем, зачем он ему, бездельнику и тунеядцу?
Ни для кого не секрет, наверное, что если священник является настоятелем, то волей или неволей, но ему приходится осваивать всевозможные смежные профессии — понемножку становиться администратором, финансистом, прорабом. А иногда и не понемножку. Потому как хозяйство часто достается порядком запущенное, во многих заботах нуждающееся, это не говоря о тех случаях, когда с нуля строить нужно.
Кажется, это очень здорово — такая многофункциональность. Здорово и интересно. Только надо самому быть «практикующим священником», чтобы на опыте узнать, насколько в действительности все эти «наросты» мешают пастырю в его служении.
И не только потому, что время отнимают и силы, а и потому что трудно, когда у тебя все вперемежку в голове и в душе: долги перед строителями, которые вот-вот развернутся и уйдут, кирпич некачественный, с которым тебя обманули, зарплата сотрудникам, опять задержанная, а у них она и так невысокая… И вместе с этим — исповедь, служба, требы. Что-то в итоге страдает. Что-то… А священник страдает непременно, разрываясь меж тем и другим.
Отдельная тема — спонсоры и благодетели, о которых так любят иронично писать светские журналисты. И вообще — «добывание денег». Если кто-то думает, что это легкий и радостный труд, то такого человека просто надо брать на работу — пусть сам трудится, добывает, а мы ему зарплату платить будем. Зарплаты мало — пусть процент с каждого пожертвования получает, лишь нас от этой нужды освободит. Только утопия это, к сожалению, нереальная и несбыточная.
Спонсоры спонсорам рознь. Церковный человек, прихожанин, имеющий свой бизнес и регулярно жертвующий на храм — это встречается, но это — редкость. А куда чаще священник идет — порой по рекомендации, порой наугад — по офисам и кабинетам, пишет письма, отсылает и снова идет. Потом отсылают его, иногда вежливо, иногда не очень. Иногда — делают интересные деловые предложения:
— Ну мне, в общих чертах, нужда ваша понятно. Сколько, говоришь, на куполок надо? Пятьсот тысяч? Нет, могу только сто пятьдесят. И знаешь что, альтруистов сейчас нет.
Мне тоже какая-то польза должна быть.
— А пусть меня по телевизору покажут с этим, как его… С Владыкой вашим, и он обо мне хорошо скажет. И грамоту не забудьте.
Иногда — еще интересней, ну да что рассказывать, душу бередить. Жизнь!
А только и после такого похода снова чувствуешь себя если не избитым, то, по крайней мере, аферистом каким то, который ходит и ищет, как бы чего урвать на разные свои нужды. И часто только понимание, что не свои они, а церковные, что храм у тебя за спиной и люди в нем, помогает снова идти. Бывает и иначе, конечно, совсем другие люди попадаются, но это как чудо уже воспринимаешь, и благодаришь за него — Бога и их самих…
Отдельная совсем статья — те, кто требует твоей помощи. Они никогда не оскудевают, если только ты и правда священник. Они несут тебе свою скорбь, боль, беду, приходят с нуждой духовной и нуждой материальной. И ты бьешься, чтобы им помочь. Духовно — проще на самом деле. Потому что тот, кто духовного ищет, как правило, хоть что то, но сам готов делать.
А у кого беда и никакого понимания ее внутренних глубинных причин, и никакого желания в них разбираться, и даже веры как таковой нет, а только одно: «Сделай что-нибудь, если можешь»?
Вот ты и соцработник импровизированный, и участковый, и сам спонсор — опять в одном лице. Только с КПД не особо высоким, потому что не хватает тебя на все. И от этого тоже страшно устаешь — от того, что нужен ты, а тебя не хватает. Выправляешь с грехом пополам паспорт бомжу (слово противное, но трудно постоянно повторять — бездомному человеку, вот и привыкаешь к этому жестокому сокращению), пролечиваешь его от… разных болезней, таких, что в приличном обществе и не назовешь, а на следующий день кто-то бьет его бутылкой по голове, и ты даже отпеть его не можешь, его уже без тебя похоронили…
…Что-то мне кажется, увлекся я. Хотел просто сухо и коротко изложить, от чего может уставать современный пастырь, а перешло все в жалобу какую то, что ли… Наверное, тема просто больная. Или усталость накопилась. Или — поделиться захотелось, усталостью то есть. Да и мы делимся ею друг с другом — армия усталых бездельников и тунеядцев. И потому очень хорошо находим между собой понимание: знаем ведь, что у кого болит и почему.
Конечно, грех нам на самом деле на что-то роптать, в действительности мы очень счастливые люди. И Господь за малый труд утешает так, что никаких других утешений не надо, и людей вокруг замечательных море, и смысл и цель жизни предельно ясны, и жизнь сама так часто открывается, как самое настоящее чудо.
Поэтому и жалоба — не жалоба, а обычный рассказ. В большей степени, повторюсь, на внешних рассчитанный. Может, кто-то вчитается в него и увидит в нашей жизни что-то достойное — нет, не уважения, а хотя бы принятия. Может, не будем казаться такими уж никчемными, никому пользы не приносящими и ровным счетом ничего не делающими ленивцами? Дай Бог, если так.
игумен Нектарий ( Морозов)
Источник: myslo.ru
